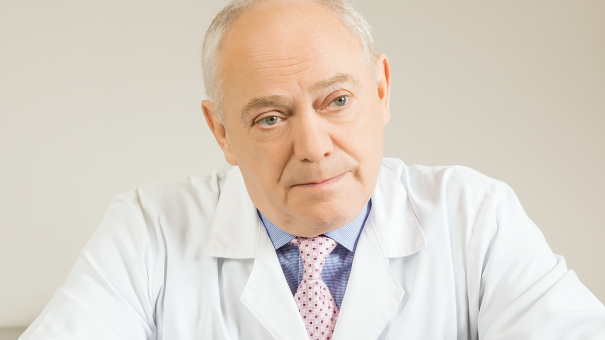
Александр Румянцев
«Самое большое удовольствие для ученого — реализовать высокую цель, поскольку наука — это тяжелый кропотливый труд»
Детский рак — словосочетание, вызывающее страх и ощутимую боль в груди. Откуда сила духа у детских онкологов? Как развивается детская онкологическая служба в нашей стране? Возможно ли победить неизлечимое заболевание?Александр Григорьевич похож на классического Айболита из детского фильма «Айболит 66». Он подвижен и улыбчив, доброжелательно общается на любые темы, правда, очень коротко. Только об истории и развитии своей любимой науки онкогематологии профессор Румянцев готов рассказывать подробно, не замечая времени. Вопросов к Александру Григорьевичу накопилось множество, и мы начали по порядку.
Досье КС

Александр Григорьевич Румянцев
Академик РАН, профессор
Город: Москва
Должность: директор Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии детского онкологического центра имени Дмитрия Рогачева, главный детский гематолог Минздрава РФ.
КС: Александр Григорьевич, как получилось, что вы нашли свое призвание в гематологии?
АГ: Я учился на педиатрическом факультете 2‑го Московского медицинского института, когда в 1969 году произошла моя судьбоносная встреча с преподавателем, сейчас профессором, заслуженным врачом России Лидией Алексеевной Махоновой, ученицей И. А. Кассирского. Она была организатором первого в СССР отделения гематологии, созданного в 1964 году в Морозовской детской больнице. Тогда я был поражен работами Махоновой. И влюбился. И в Лидию Алексеевну, и в дело, которым она занималась. 1 апреля ей исполнилось 88 лет. Мы дружим до сих пор.
КС: Выходит, правы французы, утверждая «шерше ля фам». Александр Григорьевич, с чего начинается ваш обычный рабочий день?
АГ: Подъем в 5 часов, и в 6:30 я на работе. Работа директора центра не очень интересна, надо просмотреть и подписать гигантское количество документов. Много работы и с людьми, которые приходят, как правило, не поделиться радостью, а с проблемами, личными вопросами и так далее. Я бы сказал, что работаю примерно 12 часов в день.И так уже двадцать пятый год, поскольку являюсь директором института, который сам с нуля в 1991 году и основал. Сначала это был обычный научно-исследовательский институт, а сейчас вырос в одно из самых крупных научных учреждений в стране. В феврале нашему учреждению исполнилось 24 года.
КС: Направление деятельности детского онкологического центра имени Димы Рогачева — это прикладная или фундаментальная наука?
АГ: Мы занимаемся клинической наукой, которая касается пострегистрационных исследований в рамках перспективных многоцентровых рандомизированных исследований по оптимизации лечения больных. На это не способна ни одна обычная больница, поскольку обязательно требуется научная идея, определяющая смысл оптимизации лечения. Под эту идею выстраивается протокол, который распределяется в базе данных. А потом, чтобы избежать селекции исполнителей и селекции пациентов, которые обязательно существуют, нужно, чтобы рутинные отделения тоже участвовали в этом проекте. Им преподносятся готовая идея, готовый протокол и готовая база данных.
КС: Объясните, пожалуйста, термин «селекция пациентов».
АГ: Естественная селекция больных в области детской онкологии и гематологии заключается в том, что дети до года не успевают доезжать до профильных отделений. Федеральные центры отказывают неперспективным больным в помощи. Дети любого возраста, которые находятся, что называется, в российской тьмутаракани, тоже не доезжают и лечатся там, где это возможно. К сожалению, пока там нет определенных условий и стандартов.
КС: В мире уже есть положительный опыт по ведению детей с онкологическими заболеваниями. Возможно ли пользоваться и им?
АГ: Еще в период перестройки мы отказались от идеи национального продукта и перешли к исполнению международных протоколов лечения, основанных на результатах многоцентровых исследований. Мы повесили над дверями своего учреждения знаменитое, но малоизвестное врачам изречение Антона Павловича Чехова «Нет национальной науки, как нет национальной таблицы умножения». И до сих пор мы стараемся придерживаться этой позиции.
КС: Когда и каким образом произошло знакомство с международными специалистами в области онкогематологии?

И в 1989 году в составе советской делегации я впервые выехал в Германию на конференцию, посвященную лечению онкогематологических больных детей. Тогда мы и услышали о том, что существует другой научный подход к лечению лейкоза, а именно медицинская технология, основанная на оценке многоцентровых исследований. У нас слов таких даже не было. Я был потрясен, просто потрясен.
КС: С этого момента и началось сотрудничество с коллегами из других стран?
АГ: Тогда же, не имея никаких полномочий, я пригласил 15 ведущих специалистов мира к нам в Москву. И в 1990 году в феврале они приехали. В усадьбе художника Поленова и в пансионате «Тулачермет» собралось триста врачей со всего Советского Союза.
Пятнадцать ученых мирового уровня делились с ними тем, как они лечат больных.
КС: Это был прорыв в отечественной онкологии?
АГ: Да. Ведь затем наши врачи начиная с 1990 года массово поехали учиться за рубеж. Это закончилось гигантскими медицинскими программами в России. Все специалисты, работающие в нашей стране, а у нас сейчас 84 центра детской гематологии/онкологии, в разное время обучались за рубежом. И в 1991 году уже был открыт Институт детской гематологии, который я организовал, создав первую кооперированную исследовательскую группу по оптимизации лечения детского рака. Этой группе в будущем году исполняется 25 лет.
КС: Какие результаты достигнуты за это время?
АГ: Теперь выживаемость больных с острым лимфобластным лейкозом в кооперированной группе, в которой участвуют 54 субъекта Российской Федерации, Белоруссии, Узбекистана и Армении, составляет не 6,7 %, а уже 87 %. Такого успеха в России никогда раньше не было. Наша группа стала полноправным конкурентом германской кооперированной группы, у которой мы учились. Никто в России, в СНГ и странах Европейского сообщества не сможет в ближайшие 20 лет обойти нашу кооперированную группу в развитии этого дела. Теперь это бренд России.
КС: Александр Григорьевич, известно о вашей собственной концепции развития онкогематологии в детском возрасте. В чем она состоит?
АГ: Моя первая работа, которой я занимался на кафедре иммунологии, возглавляемой профессором Кисляк Натальей Сергеевной, была посвящена иммунотерапии острого лейкоза. Потом я продолжал ту же работу, находясь в кругу педиатров, иммунологов и гематологов. Поскольку острые лимфобластные лейкозы являются моделью рака, так как представляют собой генерализованную опухоль V стадии, или, образнее, циркулирующий метастаз, который поражает одновременно все органы и ткани, то эта работа была посвящена модели лекарственной терапии любого рака в мире. И она ею остается.
КС: Это касается только детского рака?
АГ: Нет, и взрослого тоже. Что такое лимфобластный лейкоз? Это болезнь крови, но по существу болезнь иммунной системы. Чтобы это стало ясно, понадобилось тридцать лет. Когда в 2000 году был открыт геном человека, стало понятно, что кто‑то руководит многоклеточным организмом. И это не нервная система, и не эндокринная.
КС: Значит то, чему нас учили в институте, было неверно?
АГ: Это были этапы большого пути. Оказалось, что в роли контролера выступает так называемая клеточная регуляция — субстанция очень тонкая, малоизученная. Но за спиной уже были гематологи и иммунологи, потому что, во‑первых, отцом современной иммунологии является наш с вами соотечественник Илья Ильич Мечников, а отцом мировой гематологии — Александр Александрович Максимов, заведующий кафедрой патологии гематологии в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии. Он описал стволовую клетку 100 лет назад и стал родоначальником унитарной теории кроветворения в мире.
КС: Что же произошло дальше?
АГ: Выяснилось, клеток крови не существует. Всё это клетки иммунокомпетентной системы, которые выполняют свои служебные обязанности в полной мере. А костный мозг является убежищем всех стволовых клеток организма, которые восстанавливаются не in situ, а централизованно.
Стало понятно, что многие заболевания имеют генетическую природу. Например, острых лимфобластных лейкозов 12 разновидностей, каждый из них имеет характерную генетическую характеристику, что определяет дифференцированный подход к терапии. А миелобластных лейкозов 9 видов, и внутри них есть еще генетические поломки. Это революция в области иммунологии. Поэтому больше половины всех нобелевских премий в медицине за все годы были учреждены за иммунологию. При том что иммунология родилась в 1971 году, когда были открыты Т- и В-лимфоциты.
КС: Александр Григорьевич, приведите, пожалуйста, пример, за что была получена Нобелевская премия в области иммунологии?
АГ: Например, есть хронический миелобластный лейкоз, абсолютно смертельное заболевание. Клиника его хорошо описана, поскольку при изучении обнаружили первый генетический дефект при лейкозе, который называется «филадельфийской хромосомой». Была установлена причина: сначала генетическая — филадельфийская хромосома, затем был вскрыт механизм ее появления. Оказалось, что это обмен между двумя хромосомами с образованием нового транскрипта. И к этому образованию иммунологами была предложена тирозинкиназа, которая блокировала этот транскрипт, останавливая патологическую цепочку развития опухоли
КС: И это открытие уже используется в нашей практике?
АГ: Используется. Всего одна таблетка в день, и человек из смертельно больного пациента становится обычным больным, зависящим, как при диабете, от приема лекарств.

АГ: Уже несколько лет работает государственная программа по лечению данного заболевания, в которую входит семь нозологий. Все пациенты России, которым поставлен диагноз хронического миелобластного лейкоза, бесплатно получают эти таблетки, не ложась в клинику. И примерно 80 % пациентов дают молекулярную ремиссию, качественно живут и продолжают работать.
КС: Есть ли способы, как можно раньше выявить начало такого заболевания?
АГ: Сейчас стало понятно, что мама с ребенком обмениваются клетками очень рано, на эмбриональном этапе жизни. При этом иммунная система ребёнка рассматривает клетки мамы как свои. И это количество клеток сохраняется у ребенка в течение всей жизни. Что они делают? Какую функцию выполняют? Это явление называется микрохимеризмом, проблемой, из которой вырастает целый ряд расстройств.
Сегодня мы можем, установить генетику плода, получая биологический материал из крови мамы, минуя амниоцентез, кордоцентез и другие инвазивные исследования. В позапрошлом году Денис Лоу, ученый из Гонконга, провел полногеномное секвенирование ДНК ребёнка, полученной из крови мамы. Эта статья была опубликована в Nature, и весь мир уже в этом отношении перевернулся. Потому что сегодня, чтобы установить диагноз серьезных генетических заболеваний, таких как, например, болезнь Дауна, надо всего‑то взять кровь беременной мамы.
КС: Именно в этом состоит ваша теория?
АГ: Моя концепция, основанная на 50‑летних клинических опытах, состоит в том, что клинические проявления заболеваний дают основания для так называемого эмпирического диагноза, но они не уточняют причину этого поражения. Поскольку клинические проявления всегда являются продуктом адаптации клеточных механизмов из‑за нарушения их регуляции.
КС: С какими же заболеваниями лечатся дети именно в вашем центре?
АГ: В нашем центре концентрируются пациенты со всеми видами болезней крови и онкологических заболеваний, а также дети с первичными иммунодефицитами, которые выявляются всё чаще. Надо отметить, что в этом году на симпозиуме в Европе в классификаторе иммунодефицитов зарегистрировано уже две тысячи заболеваний. А когда мы начинали работать, их было всего семь нозологий. При изучении иммунодефицитных состояний недавно вскрыты механизмы сборки иммуноглобулинов и появления так называемых Т-клеточных рецепторов. Разнообразие их колоссальное, чтобы иммунная система могла выстраивать индивидуальный тонкий ответ.
КС: Возможно ли заранее предположить развитие иммунодефицитного состояния?
АГ: Существует некая матрица, в которой происходит образование специфического рецептора. Этот кусок матрицы собирается в колечко и находится в клетке цитоплазмы, пока она не погибнет. Сейчас при перинатальном скрининге можно поймать этот момент: произошло образование этих колечек или нет. Если не произошло, то по прогнозу это будут пациенты с тяжелыми комбинированными иммунодефицитами, а также с генетическими синдромами, каждый из которых нарушает процесс клеточной регуляции.
КС: Александр Григорьевич, приведите, пожалуйста, наглядный клинический пример.
АГ: Некоторые мальчики при заражении вирусом Эпштейн — Барра стопроцентно развивают злокачественную лимфому. Вопрос: что делать, если у ребенка установлен такой дефект? Ждать, пока разовьётся лимфома? На сегодня правильный ответ — предупредить развитие патологического процесса трансплантацией стволовых клеток.
КС: В вашем центре часто проводятся трансплантации стволовых клеток?
АГ: В год проводится примерно 200 трансплантаций костного мозга от неродственных доноров, большинство из которых граждане Германии. В нашем Федеральном центре 470 специализированных коек, и это самый крупный центр нашего профиля в мире. В год через клинику проходит около десяти тысяч пациентов. Кроме пересадки костного мозга в Центре выполняются все высокотехнологичные опции, касающиеся лечения этого контингента больных, а именно все виды операций, в том числе пересадка суставов, специальные операции на костях при остеосаркомах, конформная лучевая и томотерапия, клеточные технологии, специальная реабилитация детей, выздоровевших от рака.
КС: Значит, операции по трансплантации стволовых клеток проводятся почти каждый день?
АГ: Почти в каждый будний день проводится трансплантация. Ведь это завод, технологическая линейка, по которой работает коллектив. В центре работают примерно 75 профессоров, докторов наук и 140 кандидатов медицинских наук. Это большой научный потенциал. Также для того, чтобы центр интерактивно мог работать с ведущими западными клиниками, у нас работают пять приглашенных западных специалистов. Каждый из них контролирует свое направление: онкологию, гематологию, лучевую диагностику, лучевую терапию и морфологию. Кстати, в отличие от других дисциплин, наш диагноз не клинический, а морфологический.
КС: Как взаимодействуют такие методы лечения рака, как трансплантация стволовых клеток и химиотерапия?
АГ: Это разведенные методы, но совместимые друг с другом. Если развивается опухоль, то опухолевых клеток становится очень много, больше чем десять в девятой степени. А уровень иммунокомпетентных клеток составляет примерно десять в шестой степени. Следовательно, никакими защитными механизмами эта опухоль не может быть подавлена. Поэтому парадигма такая: производится эрадикационная терапия с подавлением опухоли до уровня примерно десять в шестой степени опухолевых клеток. Потом остается надеяться, что организм сможет с ними справиться с помощью иммунных механизмов. Вот что делает химиотерапия.
КС: Каков порядок лечения больных детей?
АГ: Лечение всех онкологических заболеваний детей начинается с так называемой адъювантной терапии. Химиотерапия является основным методом лечения онкозаболеваний у детей. Хирургия и лучевая терапия имеют вспомогательное значение. Важно, что в лечении одного пациента участвуют одновременно до восьми специалистов разных направлений: цитолог, генетик, иммунолог, специалист по лучевой диагностике, специалист по лучевой терапии, специалист в области хирургии, анестезиологии и реанимации, — все они являются участниками единого процесса. В лечении детей этот процесс выстроен основательно. Поэтому на сегодня в РФ выздоравливает около 70 % онкобольных детей на круг. А для некоторых видов опухоли — 95 %. Сегодня эту работу обеспечивают примерно 500 врачей-специалистов в 84 центрах РФ, которые работают по единому стандартному протоколу лечения. Вследствие чего дети в Калининграде и Владивостоке лечатся точно так же, как у нас. Все врачи нашей специальности, педиатры, гематологи, онкологи объединены в Национальное общество детских гематологов и онкологов (НОДГО), которые имеют свой сайт, журнал и активно работают в России и за рубежом.
КС: О каком открытии в науке вы мечтаете?
АГ: Мы ждем быстрейшего развития так называемой персонифицированной медицины. Суть ее в том, что у каждого человека свой код жизни. Мы имеем уникальную генетику, уникальную микробиоту. Мы не можем развить одно и то же заболевание по одинаковому сценарию.
Поскольку многие метаболические пути, реперные механизмы уже известны и выложены в Сеть в виде программы, то на них можно наложить лабораторные или еще какие‑то данные конкретного пациента. Это даст возможность вычислить больную точку и прямо в нее направить таргентное лекарство. Сейчас эта позиция самым бурным образом развивается в онкологии.
КС: Александр Григорьевич, вы — автор 465 научных работ, какой научный труд из этого большого количества для вас самый любимый?
АГ: Наверное, это первая научная работа. Я написал ее, учась в аспирантуре, по следам открытия французского ученого Жоржа Мате, директора национального института рака во Франции. Он первый применил иммунотерапию вакциной БЦЖ у больных раком. Я воспроизводил эту работу здесь, в России, используя наши отечественные вакцины. Они полностью идентичны французской вакцине, которую наш профессор Тарасевич привез в Россию в 1925 году, получив ее в Париже, в институте Пастера. Я тогда получил необычный результат, который опубликовал в 1977 году в журнале «Советская медицина». В этой работе описана суть адъювантной иммунотерапии. Через много лет я неожиданно получил открытку из специализированного обобщающего медицинского журнала иммунологии США о том, что эта моя работа вошла в анналы мировой практики. А я даже и не думал, что так может случиться, ведь самое большое удовольствие для учёного — реализовать высокую цель, поскольку наука — это тяжелый кропотливый труд.
КС: С какими благотворительными фондами сотрудничает ваш центр?
АГ: У нас колоссальный опыт работы с благотворительными фондами, оказывающими реальную помощь. Я был одним из организаторов открытия такого международного благотворительного фонда в 1990 году, который назывался фонд «Гематологи мира детям». Его патронессой была Раиса Максимовна Горбачева. В состав фонда входили выдающиеся отечественные и западные специалисты. Сообщество просуществовало 10 лет, пока была жива Раиса Максимовна.
Сейчас мои коллеги и я сотрудничаем с десятками отечественных и зарубежных благотворительных фондов. Например, уже семь лет с фондом «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун, который находится на территории центра. У всех наших сотрудников карточки фонда «Подари жизнь», на которые отчисляется 0,3 процента с каждой оплаты. Вклад этих организаций в наше дело составляет до 25 процентов от бюджета.
КС: Что для вас самое важное в настоящее время?
АГ: Это две вещи: способность трудиться и желание какой‑то цели. Ведь если не поставлена конкретная цель, то непонятно, куда двигаться. Начинаешь метаться и в результате приходишь к позиции «делай, как все».
В науке, кстати, есть ситуации, когда на пути к цели ты отбрасываешь всё остальное как ненужное. Конечно, семье, детям, внукам ты внимание уделяешь, но всё равно идешь как сумасшедший к своей научной цели.
КС: Как вашу одержимость наукой переносит жена?
АГ: Мы с женой, а она тоже врач, поженились в 20 лет, и вместе уже 50 лет. Могу сказать, что она знала, кого выбирала. Да, она считает, что я тронутый немножечко, сумасшедший, потому что невозможно так работать до сих пор.
КС: Ваша трудоспособность, здоровье, подтянутый спортивный вид есть результат ограничений?
АГ: Нет, я всё люблю. Веду себя обычным образом, ни в чем себя не ограничиваю. Меня тренирует работа, еще раз работа и движение.
КС: Александр Григорьевич, вы — выпускник Второго Московского медицинского института имени Н. И. Пирогова, который славится своим студенческим братством. Со своими однокурсниками часто общаетесь?
АГ: Да. Нас 12 выпускников, с которыми мы дружим и до сих пор вместе. Когда мне исполнилось 60 лет и мои друзья собрались по этому поводу на даче, то решили, что должны сплотить наши ряды еще теснее. Кстати, один из моих учеников — это известный реабилитолог Сергей Бубновский, и мы всей группой однокурсников ходим к нему заниматься.
Последние 8 лет мы вместе проводим отпуск, отдыхаем и путешествуем. Друзьям не надо рассказывать, кто ты. Молча сидишь рядом и получаешь удовольствие от общения. Наши девочки, некоторые из которых уже и прабабушки, всё равно девочки, наши мальчики всё равно мальчики. Хоть в настоящее время среди нас два академика, шесть профессоров, доктора и кандидаты наук, все из одной группы. Второй мединститут очень хорошо готовил медицинские кадры. Сейчас начинаем с друзьями праздновать семидесятилетия, и снова наступает период юбилеев.
5985 просмотров
Поделиться ссылкой с друзьями ВКонтакте Одноклассники
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

 Катрен Стиль
Катрен Стиль


зарегистрированным пользователям