
Аптечные итоги 2024-го: взгляд аналитика
Интервью с экспертом рынка об актуальных проблемах отечественного фармрынка и о ближайшем будущем отрасли
Пока 2025 год ещё на старте, есть время проанализировать результаты года минувшего. В ситуации, когда изменились принципы налогообложения, система последипломного обучения специалистов реформируется, а градус конкуренции на фармрынке продолжает повышаться, аналитические данные будут исключительно полезны. Ведь даже когда прогнозы далеки от оптимистичных, информированность может помочь найти выход из тупиковой, казалось бы, ситуации.
Об основных тенденциях, отмеченных в фармацевтической рознице в 2024 г. и продолжающихся сегодня, рассказывает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
«Катрен-Стиль»: Николай Владимирович, как Вы считаете, какими основными событиями запомнился минувший год аптечному сектору?
Николай Беспалов: В 2024 г. обошлось без каких‑то системных кризисов, ажиотажа и т. п. Более того, фармрынок чувствовал себя очень неплохо — и в количественном, и в качественном аспекте. Важным достижением года стал возобновившийся рост числа иностранных лекарств: в 2024 г. ассортимент зарубежных препаратов, которые поступали на российский рынок в целом (во всех сегментах в совокупности) вырос на 68 позиций, а всего было поставлено 4 748 различных единиц складского хранения (SKU). Подъём произошёл после продолжительного спада — ассортиментное разнообразие импортной продукции уменьшалось несколько лет подряд, начиная с «ковидного» 2020 г. Мы подробно рассказывали об этом, в частности, здесь.
Ещё одной важной тенденцией минувшего года стало сильное давление онлайн-формата (о чём подробнее расскажу немногим позже). Но это не новое веяние, а скорее продолжение тенденции прошлых лет: маркетплейсы «взлетели» примерно в 2020 г. и с тех пор последовательно «наступают» на классическую аптеку. С одной стороны, такой сценарий не особенно благоприятен для отдельных представителей отрасли, но в разрезе развития фармрынка в целом интернет-сегмент игнорировать нельзя — офлайн-игрокам всё равно придётся в него встраиваться в том или ином виде — либо самостоятельно (тем, кто может это себе позволить), либо с помощью различных агрегаторов.
КС: Какие другие события 2024 года могут сказаться на состоянии фармотрасли?
НБ: Не могу не отметить, в первую очередь, проблемы доступности таких важных для системы здравоохранения продуктов, как инфузионные растворы и иммуноглобулин антирезус. Серьёзный дефицит растворов для инфузий наблюдался летом и в начале осени, а ближе к концу года проблемы в отношении производства этой номенклатуры были решены, и дефектура стала уменьшаться. Сейчас ситуация уже более-менее нормализуется. А если говорить об иммуноглобулине, то в прошлом году система здравоохранения не получила примерно половину объёма препарата. Так что вопрос пока не решён.
Несмотря на то, что названный ассортимент — не самый привычный для «обычной», не больничной аптеки, проблема с доступностью этих наименований коснулась и её. Ведь большинство покупателей массово обращались именно к «своим» провизорам и фармацевтам рядом с работой или домом.
Другой отрицательный факт (правда, не прошлогодний, а наблюдаемый уже несколько лет) — сложности индексации цен в госреестре. Кстати, проблема доступности инфузионного натрия хлорида и иммуноглобулина антирезус имеет к этому непосредственное отношение. Из-за изменений в логистике и колебаний на валютном рынке себестоимость препаратов выросла очень сильно, но скорректировать цену удаётся весьма дозированно.
И, наконец, ещё один негативный фактор — инфляция. По официальным данным Росстата, цены на медикаменты в прошлом году выросли на 11,1 %. В условиях значительного роста доходов населения это было не так заметно, но, тем не менее, и на объём, и на структуру потребления рост цен оказывает самое непосредственное влияние.
КС: Какие из результатов работы фармацевтической розницы в 2024 г. Вы хотели бы отметить?
НБ: В минувшем году розничный сегмент национального фармрынка достиг 1,64 трлн руб. (в ценах потребителей с НДС). Динамика относительно предшествующего 2023 г. оказалась весьма значительной — порядка 16 %. Для сравнения: в 2023 году (по сравнению с 2022 годом) рост составил всего 5,6 %. Правда, так получилось скорее за счёт аномалий спроса в 2022 г., когда были отмечены очень серьёзные перекосы в потреблении.
Натуральный объём розничного фармрынка в 2024 г. составил 4,92 млрд упаковок. Относительно 2023 г. динамика здесь на уровне +0,6 %, а в 2023 г. наблюдался спад по сравнению с предшествующим годом (на уровне –3 %).
КС: Были ли в минувшем году другие ярко выраженные особенности спроса на лекарственные препараты?
НБ: Здесь стоит обратить внимание на стремительное переключение спроса на покупку более дорогих наименований. Если в позапрошлом 2023 г. доля препаратов с ценой выше 1 тыс. руб. за упаковку в общем объёме рынка составляла 28,4 %, то по итогам минувшего 2024 г. она выросла до 32,4 %. Для данного ценового сегмента такая динамика очень значима. Подъём спроса был отмечен и для медикаментов стоимостью от 500 руб. до 1 тыс. руб., но здесь темпы роста оказались скромнее.
Интересу к более дорогим препаратам способствовал, прежде всего, рост доходов населения. Свой вклад внесла и инфляция — более чем одиннадцатипроцентная. Наконец, происходил процесс переключения спроса на более крупные упаковки, которые содержат большее количество разовых доз. Это актуально для людей, которые страдают хроническими заболеваниями.
КС: А как в аптеках обстояли дела с парафармацевтикой?
НБ: Общий объём аптечных продаж нелекарственного ассортимента в прошлом году насчитывал 407,5 млрд рублей. Это 19,7 % от суммарной стоимости всей продукции, приобретённой россиянами в аптеках за этот период. И динамика вроде бы тоже положительная: в сравнении с результатами 2023 года подъём составил целых 15,8 %.
Но в действительности здесь есть серьёзная проблема: в 2023 г. реализация парафармацевтики в аптеках упала на 15,2 %. Получается, что в прошлом году аптечный сегмент еле‑еле отыграл потери позапрошлого. При этом общий денежный объём продаж оказался даже ниже, чем в 2022 г. Тогда в аптеках нашей страны была приобретена нелекарственная продукция общей стоимостью в 414,8 млрд руб. В совокупной выручке аптечного звена доля данного ассортимента составила порядка 23 %. Это всё‑таки ближе к одной четвёртой, а не к одной пятой.
А ведь инфляция в сегменте парафармацевтики тоже очень высока. Так что очевидно, что в этой части работы аптеки назревает системный кризис. Риски обусловлены перетоком покупателей из офлайн-канала на маркетплейсы — ведь, ещё раз подчеркну, интернет-ритейлеры давят на фармрынок все сильнее и сильнее. И похоже, что эту битву аптечное звено уже проиграло.
Да, обвала мы пока что не ждём. Но отток покупателей в «интернет-магазины» продолжится — и он будет только расти. Учитывая, что парафармацевтика вносит существенный вклад в прибыльность работы аптеки, ситуация в фармацевтической рознице обещает быть всё сложнее и сложнее…
КС: Услышав такой прогноз, нельзя не спросить: как складывается сегодня взаимодействие аптеки и дистрибьюции?
НБ: В прошлом году кардинальных перемен здесь не наблюдалось: все самые болезненные и значимые шаги были сделаны раньше. А в 2024 г. велась уже обычная планомерная работа — разумеется, с учётом новых реалий. Ведь оптовики всё же не первые, кто определяет курс движения фармрынка: они передают в аптечное звено те условия, которые им диктуют производители. При этом дистрибьюторы, естественно, заинтересованы в гарантиях возврата по товарным кредитам и минимизации сроков предоставления отсрочки. Все эти инструменты сугубо индивидуальны. Зависят они и от прошлого опыта работы с конкретным ритейлером, и от объёма поставок, продолжительности отсрочки и форм обеспечения (таких как страхование ответственности, банковские гарантии и т. п.).
Среди знаковых событий минувшего года можно отметить разве что консолидационную активность дистрибьюторов. В частности, сеть «Ригла» (входящая в состав группы «Протек») совершила сразу несколько сделок по покупке региональных аптечных компаний, включая довольно крупные. Кроме того, развиваются агрегативные форматы, но это опять же продолжение более ранних трендов.
КС: Да, консолидация в фармацевтической рознице идёт стремительно. На Ваш взгляд, какие факторы её стимулируют — и что могут ей противопоставить независимые аптеки и некрупные аптечные сети?
НБ: На наш взгляд, продолжающаяся консолидация отчасти стала результатом изменений в налоговой политике: у ряда аптечных сетей затраты выросли настолько, что они оказались буквально на грани рентабельности. Второй фактор, стимулирующий слияния, — это изменение условий сотрудничества с дистрибьюторами. Как уже отметил, они последовательно ужесточаются уже нескольких лет. Меняется и формат взаимодействия аптечного звена и производителей (речь, разумеется, идёт о сфере продвижения). Многие крупные фармкомпании тоже последовательно ужесточали формат работы с розницей в отношении маркетинга.
Конечно, ситуацию в некоторой степени «уравновешивают» агрегаторы (в т. ч. созданные на базе дистрибьюторов). Они помогают привлекать маркетинговые бюджеты для сравнительно небольших ритейлеров. Но это уже не те суммы, которые средних размеров аптечная сеть раньше могла заработать сама, даже без участия в ассоциативных проектах.
Кстати, в прошлом году сразу несколько сетей вышли из состава такой структуры, как «Ирис». Предприятия были куплены различными участниками фармрынка, в т. ч. той же «Риглой». Доходность работы — даже с учётом участия в ассоциации — стала настолько низкой, что собственникам оказалось проще избавиться от своих активов.
Думаю, что крупный бизнес будет и дальше консолидировать фармрынок. Этот процесс продолжится просто потому, что масштабные структуры получают иные условия от поставщиков и производителей. И данному сценарию единичные аптеки и небольшие сети пока мало что могут противопоставить. Конечно, на отдельных территориях они сохраняются. Особенно если владелец аптечной организации — собственник помещения или же речь идёт об относительно малонаселённых районах. Но рано или поздно крупные компании доберутся и до таких уголков на географической карте. Более того, такие сети, как «Апрель», уже активно этим занимаются.
Конечно, небольшая фармрозница может выиграть за счёт специализации на том или ином ассортименте или конкурировать за счёт высокого уровня сервиса, но всё это возможности существования на среднесрочную перспективу. Глобальных долгосрочных стратегий у единичных аптек не наблюдается — во всяком случае, в рамках текущей регуляторики и фискальной политики.
КС: И все же остаётся ли у классической единичной аптеки возможность выжить вне какого‑либо союза или объединения?
НБ: Если говорить о выживании, то, конечно, да. Но развиваться и строить долгосрочные планы будет трудно. Во всяком случае, если мы говорим о массовом формате.
Разумеется, уникальные аптечные учреждения останутся. Например, в Москве есть знаменитая «Аптека на Кузнецком мосту». Это уже своего рода городская достопримечательность, в которой сформировалась даже своеобразная субкультура стояния в очереди. И по меркам российского фармбизнеса здесь очень немаленький доход и покупательский поток для единичной аптеки. Но таких примеров на всю страну — всего несколько сотен.
Ещё, конечно, есть специализированные аптечные организации. Они тоже смогли в достаточной мере встроиться в современные реалии, и их работе едва ли что‑то грозит. Но «в общем и целом» таких аптек, может быть, около двух тысяч. А ведь в нашей стране по состоянию на октябрь 2024 г. работало 81,1 тыс. аптечных «точек», и большинство из них — как раз обычные, среднестатистические. Так что прогноз понятен: весь «массовый» сегмент фармрынка с вероятностью 99 % будет занят более или менее крупными сетями. Вопрос только в том, как долго продлится этот процесс и сколько компаний будут контролировать рынок.
КС: Как при этом будут обстоять дела в онлайн-сегменте обращения лекарств и парафармацевтики?
НБ: С 2020 года интернет-канал переживает фактически взрывной рост. Но если на начальных этапах здесь ещё активно работали крупные аптечные сети и агрегаторы, то сейчас вектор развития отрасли постепенно смещается в сторону маркетплейсов.
Отдельные представители национальной фармацевтической розницы очень долго лоббировали запрет онлайн-продажи лекарств — и, на мой взгляд, совершили колоссальную ошибку. Есть те тенденции развития, остановить которые невозможно. И в таких случаях, как говорится, надо «не сопротивляться переменам, а возглавить их». Возглавить уже не получилось и едва ли получится, хотя крупные интересанты и создали сервисы по бронированию. Однако учитывая «половинчатость» спектра предоставляемых услуг, конкурировать с маркетплейсами в сегменте неспецифического ассортимента они не могут.
На наш взгляд, развитие онлайн-сектора искусственно сдерживалось — и сдерживается до сих пор. В итоге сейчас колоссальными темпами растёт давление на аптеки со стороны маркетплейсов. Понятно, что последние ориентированы на парафармацевтику, но эта составляющая в структуре доходности аптеки является весомой — и, как уже говорил, потери здесь будут нарастать. Уже сейчас есть множество примеров, когда аптечные агрегаторы взаимодействуют с маркетплейсами, предоставляя им свои витрины. С одной стороны, это, конечно, взаимовыгодно. С другой стороны, речь идёт, по сути, о попытках запрыгнуть на подножку уезжающего поезда.
Сегодня, по всей видимости, идёт расчёт на то, что аптека, теряя значительную часть парафармацевтики, останется уникальной точкой доступа к лекарственному ассортименту. Такой подход по‑своему тоже неплох, но он сработает только при условии расширения ассортимента — по примеру Европы (где в аптеках продают, например, продукты питания) или США (где в аптеках можно купить батарейки и сигареты). Но в нашей стране с аптечным сегментом этой номенклатурой не захочет делиться уже продуктовый и FMCG-ритейл, который сам сильно страдает от онлайна — и отдавать свой ассортимент и свои продажи, естественно, не собирается. Теоретически предложенные изменения возможны, однако практически мы к этому формату придём едва ли. Просто траектория уже задана другая.
КС: Для каких категорий лекарств и нелекарственного аптечного ассортимента сегодня отмечен максимальный переток на маркетплейсы?
НБ: Думаю, в абсолютном денежном выражении переток сильнее всего заметен в сегментах БАД и косметической продукции. В отношении медизделий этот процесс тоже идёт, и очень активно. Но здесь он развивается в основном за счёт роста продаж т. н. «ноунеймов» — продукции, как правило, китайского производства, которая продаётся сравнительно небольшими селлерами и фигурирует как абсолютно безымянная.
В классических «каменных» аптеках такой товар представлен минимально, зато на маркетплейсах, в отдельных категориях медтехники, он растёт колоссальными темпами. Например, в сегменте тонометров на розничном рынке в целом (по всем каналам в совокупности) в 2024 г. на «ноунеймы» приходилось 27 % общего количества реализованных приборов. А вот в онлайн-ритейле доля «безымянных» аппаратов составляет 58 % — и в последние годы поступательно растёт.
КС: Как считаете, в чём причина этого явления?
НБ: Дело в стоимости продукции. Брендированный тонометр стоит 3–4 тыс. руб. Абсолютно полный (с технической точки зрения) небрендированный аналог можно купить за 800–1000 руб. А если он выйдет из строя, остаётся возможность приобрести второй и даже третий прибор в рамках того же бюджета.
Напрямую продажи подобного ассортимента аптекам не грозят. Но опосредованная проблема уже стоит в полный рост. Человек, который приобрёл небрендированный аппарат, в аптеку уже не обратится. Разве что, если «ноунейм» сломается 4 раза подряд. То есть спрос тут как минимум откладывается, а как максимум — ограничивается.
Приведу ещё несколько показательных примеров. В 2024 г. онлайн-канал занимал 46 % рынка тонометров в натуральном выражении. Относительно 2023 г. доля интернет-ритейла выросла на 10 %. В группе небулайзеров — 49 %, т. е. почти каждый второй прибор был приобретён дистанционно (динамика же составила +11 % за год). А в категории молокоотсосов — целых 69 % (+8 % в сравнении с предшествующим годом).
В будущем доля брендовой продукции на маркетплейсах в этих категориях будет неизбежно расти. Производители уже сейчас несут серьёзные потери. Из-за торможения спроса они, по всей видимости, будут заключать с «электронной коммерцией» соглашения о маркетинговых услугах. И тогда аптекам придётся действительно туго, потому что покупатели станут массово уходить в тот канал рынка, где доступен привычный уже уровень сервиса — заказать товар и получить его дома, в ПВЗ или постамате.
КС: Каков Ваш прогноз для аптечного сегмента на 2025 год и ближайшую перспективу в связи с последними законодательными изменениями, ростом цен и снижением покупательской способности населения?
НБ: Несмотря на все отмеченные тенденции, пока прогноз на 2025 г. положительный: есть основания предполагать снижение уровня инфляции — а при сохранении роста доходов это будет стимулировать спрос. В денежном выражении мы предполагаем, что объём фармрынка вырастет примерно на 8–12 %, натуральная же динамика составит плюс 1–2 %. Подъём, конечно, будет обеспечиваться, прежде всего, за счёт переключения спроса на более дорогие препараты, хотя и считаем, что этот процесс будет не столь ярко выражен, как в 2024 г. К тому же, в прошлом году была достаточно спокойная осень в аспекте заболеваемости гриппом и ОРВИ. Скорее всего, всплеск респираторных инфекций придётся на февраль и март. А пока, согласно данным НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, заболеваемость стабильно растёт с первой недели января — хотя продолжает оставаться заметно ниже эпидпорога.
КС: В заключение нашего разговора хотелось бы задать ещё один вопрос, важный для современной фармдеятельности: в 2025 г. началась реформа системы последипломного образования в медицине и фармации. Как считаете, какие корректировки были бы полезны аптеке и её сотрудникам?
НБ: НМиФО действительно требует реформирования. Когда вводилась действующая система, всё представлялось почти идеальным, но на практике с точки зрения качества образования мало что поменялось. Сейчас этот инструмент всё больше превращается в формальность: специалисты набирают баллы не за счёт получения новых знаний, а просто выполняют набор требований. К тому же, последипломное обучение стало ещё одним каналом для взаимодействия различных интересантов с профильной аудиторией — и зачастую в учебных курсах фигурирует нативная реклама. То есть человек за собственные же деньги покупает не образовательную программу, а рекламные сообщения. Степень доверия к системе это, мягко говоря, не повышает. Не могу сказать, что эта проблема всеобщая, но объективно она существует. Кроме того, и к качеству материалов есть вопросы — зачастую слушателям даётся не вполне актуальная информация.
С учётом того дефицита кадров, который есть сегодня, последипломное обучение должно как можно скорее стать максимально содержательным и одновременно комфортным для специалиста в организационном аспекте. Так что посмотрим, как эта задача будет выполнена на практике.
10 февраля 2025
Текст: Екатерина Алтайская
Фото: предоставлено Николаем Беспаловым
Выпуск: №254, февраль 20251716 просмотров
1716 просмотров
Поделиться ссылкой с друзьями ВКонтакте Одноклассники
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

 Катрен Стиль
Катрен Стиль
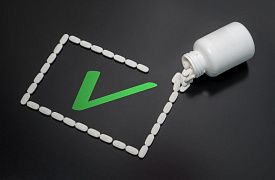

зарегистрированным пользователям